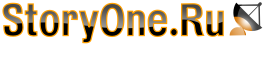Генеральная прокуратура предъявила громкий иск к председателю Совета судей Российской Федерации Виктору Момотову. Многие расценили это как начало масштабной «чистки» судебной системы, многие представители которой долгое время считали себя неприкосновенными и вдруг осознали реальную угрозу уголовных преследований против них самих.
Очередным поводом для тревоги у служителей Фемиды стало требование Генпрокуратуры изъять почти сотню объектов недвижимости, контролируемых председателем Совета судей, хотя и зарегистрированных на подставных лиц. Это воспринято как серьезный предупредительный сигнал. Сам председатель уже написал заявление «по собственному».
Совет судей — одна из ключевых структур в судебной системе, поскольку именно там решались вопросы, кто станет судьёй, кто получит переназначение, а кто будет отстранен. Поэтому одно лишь упоминание фамилии его руководителя в иске Генпрокуратуры произвело эффект разорвавшейся бомбы.
Иск был подан в Останкинский суд Москвы накануне утверждения Советом Федерации бывшего Генпрокурора Игоря Краснова на посту председателя Верховного суда. Почти сразу же освободившуюся должность занял Александр Гуцан. Кадровые перестановки могут стать началом нового политического курса, направленного на борьбу с коррупцией не только в среде госчиновников, но и среди судей. Хотя важные процессы по изменению ситуации начались ещё весной 2023 года, после задержания четырёх судей в Ростове-на-Дону. Теперь эта кампания вышла на федеральный уровень. Может, мы наконец получим ответ на вопрос: почему в российских судах так высок процент обвинительных приговоров?
По мнению юриста и правоведа Сейрана Давтяна, суровость наших судов — системная черта, сформированная историческими, процессуальными и культурными факторами:
— Российская судебная система унаследовала черты советской, где суд рассматривался как «орган борьбы с преступностью», а не как некий нейтральный арбитр. Обвинительный уклон был заложен в саму конструкцию системы.
Основная часть доказательств собирается на стадии предварительного следствия полицией и Следкомом. Судья знакомится с делом, которое уже готово для обвинения. Фактически суд чаще всего проверяет уже сформированную обвинительную версию, а не проводит независимое расследование.
«СП: Но если суд найдёт существенные недостатки в деле, он может вернуть его прокурору для устранения?
— Это долгий и невыгодный для статистики суда процесс. Проще вынести обвинительный приговор, переложив ответственность на апелляцию. А в состязательном процессе защита и обвинение в зале суда должны быть равны.
На практике судьи часто воспринимают позицию прокурора как официальную и более обоснованную, а защиту воспринимают как сторону, пытающуюся «уклониться от ответственности».
Эффективность работы судей, как и следователей с прокурорами, исторически оценивается по количеству раскрытых дел и вынесенных приговоров. Оправдание подсудимого часто трактуется как провал в работе следователя и прокурора. Судья же, который часто оправдывает, создает проблемы для своих коллег-юристов.
«СП»: Судейское сообщество сильно зависит от квалификационных коллегий?
— Конечно, поэтому председатель любого суда первой инстанции, а всего их четыре, заинтересован в беспроблемном прохождении дел и высокой «проходимости». Судья, выносящий много оправдательных приговоров, может быть воспринят как «непредсказуемый» и «проблемный», что может негативно сказаться на его сегодняшнем дне и на дальнейшей карьере.
В небольших городах судьи, прокуроры и следователи часто работают бок о бок годами, что создает неформальные связи и общее корпоративное чувство локтя, где оправдание может быть расценено как предательство по отношению к коллегам из той же прокуратуры.
Значительный процент дел, по некоторым оценкам до 60−70%, рассматривается «в особом порядке», когда подсудимый полностью признает вину.
Обратите внимание: 3 ситуации, в которых без джина не обойтись.
Он предусмотрен статьей 314 Уголовно-процессуального кодекса (УПК РФ). В этих случаях суд практически автоматом выносит обвинительный приговор, лишь проверяя формальное соответствие дела закону, что сильно увеличивает статистику обвинительных приговоров.Вынося оправдательный приговор по делу, которое долго расследовалось и получило публичный резонанс, судья рискует столкнуться с критикой в СМИ, с недовольством части общества, которое сейчас настроено, скажем так, карательно, и, разумеется, со стороны правоохранителей.
«СП»: А какова мировая статистика по этому вопросу?
— Прямого сравнения быть не может из-за разных правовых систем и принципов учета статистики. Однако разница всё-таки явная. Так, официальная статистика Судебного департамента при Верховном суде РФ показывает, что процент оправдательных приговоров в последние годы колеблется в районе 0,2%-0,4%. Это означает, что более 99% дел, дошедших до суда, заканчиваются обвинительным приговором.
Если же учесть дела, прекращенные по не реабилитирующим основаниям, таким как «примирение сторон», «деятельное раскаяние», которые де-факто тоже являются признанием вины, то картина становится ещё более однозначной.
На Западе судебные системы разные, где-то принято так называемое «континентальное право», например, в Германии, в которой оправдательный приговор выносится примерно в 3−4% случаев. Франция — около 5−6% оправданий по уголовным делам. Испания, Италия — процент оправданий составляет тоже несколько процентов.
Есть страны, где практикуется англосаксонская система прецедентного права. В Британии 5−7% дел в их «Судах по тяжким преступлениям» заканчиваются оправданием. Там огромную роль играет отсев дел на досудебных стадиях прокуратурой, которая вообще не ведёт дела с низкими шансами на успех.
А вот в США процент оправданий в федеральных судах составляет около 0,5%-1%, что тоже очень мало. Однако у них ключевой момент — сделка о признании вины. Более 97% федеральных дел заканчиваются так, не доходя до суда. Это аналог российского «особого порядка», и он так же радикально искажает статистику в сторону обвинения. А вот если дело доходит до суда присяжных, то процент оправданий составляет уже около 15−20%.
«СП: Поможет ли нынешняя «чистка» судейских рядов более справедливому рассмотрению дел?
— Это сложный вопрос, на который у меня нет однозначного ответа. Теоретически — да, борьба с коррупцией в судейском корпусе должна способствовать более справедливому правосудию. Однако на практике всё может оказаться гораздо сложнее.
Сама по себе антикоррупционная чистка судейских рядов — необходимое, но недостаточное условие. Если она направлена именно на борьбу с коррупцией, а не с независимостью судей — это полезный шаг.
Однако чистка должна сопровождается глубокими институциональными реформами, которые меняют саму логику работы системы. Иначе эффект окажется временным и поверхностным. Новые судьи быстро встроятся в старую систему с её обвинительным уклоном и зависимостью от властей.
Так что, ответ на вопрос может быть таким: да, поможет, но только, если это часть комплекса мер, направленных на создание по-настоящему независимой и состязательной судебной системы. Без этого всё рискует стать простой заменой одних «винтиков» на другие.
Больше интересных статей здесь: Новости.
Источник статьи: Лишился кресла председатель Совета судей, для многих из которых оправдательный приговор — это «профессиональный провал».