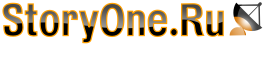Человеку свойственно не замечать границ своих возможностей. Даже здравомыслящие люди порой болезненно переживают осознание того, что некоторые двери для них закрыты навсегда — например, из-за возраста. Подобное отрицание ограничений характерно и для общества в целом, которое часто стремится к экспансии, не желая признавать естественные рамки своего развития.
Эта же тенденция наблюдается и в бизнесе, где господствует иллюзия, что на рынке можно купить всё что угодно. Однако существуют области, где рыночные отношения и свободное предпринимательство не просто неэффективны, а прямо противопоказаны. Попытки игнорировать эту истину так же опасны для общества, как для человека — попытки дышать под водой.
1. Сферы, закрытые для рынка
Классический пример — внедрение частного капитала в социально значимые отрасли, такие как медицина, образование и культура. В этих сферах потребитель зачастую не может объективно и своевременно оценить качество услуги, а цена ошибки оказывается непомерно высокой. Это касается не только сложных медицинских операций, но и базового школьного образования, формирующего личность.
Обратите внимание: Свитки Мертвого моря: слова, которые изменили мир.
2. Проблема инфраструктуры и естественных монополий
Особая ситуация складывается в инфраструктурных отраслях. Они требуют колоссальных капиталовложений и имеют неприемлемо долгие сроки окупаемости для частного инвестора. Чтобы обеспечить доходность, сопоставимую с другими секторами, частный оператор вынужден завышать тарифы. Это не всегда связано с жадностью — такова логика рынка.
В результате население начинает экономить, меньше пользуясь услугами (например, дорогами), что ведёт к снижению сборов и новому витку роста цен. Там, где альтернативы нет — как в случае с электроэнергией, — завышенные тарифы становятся тяжким бременем, тормозящим экономическое развитие.
Энергосистемы, водоснабжение, канализация, теплосети, железные дороги — это классические примеры естественных монополий. Конкуренция в этих отраслях технологически невозможна или ведёт к таким издержкам, которые сводят на нет всю потенциальную выгоду.
3. ЖКХ как квинтэссенция проблемы
Российское жилищно-коммунальное хозяйство — это наглядная иллюстрация всех перечисленных проблем. ЖКХ — это:
- Сфера жизнеобеспечения: от её работы зависит здоровье и безопасность людей.
- Комплекс естественных монополий: водопровод, канализация, отопление в многоквартирном доме по своей сути не могут быть конкурентными.
- Сфера с высокой ценой ошибки: рядовой житель не может профессионально оценить качество ремонта трубы в подвале, а последствия аварии могут быть катастрофическими.
Таким образом, попытки «освоить» ЖКХ рыночными методами ведут не к его развитию, а к системному разрушению. Скандалы вокруг капитального ремонта — лишь верхушка айсберга, за которой скрывается фундаментальная методологическая ошибка: применение неадекватных инструментов управления.
4. Политические и управленческие факторы кризиса
Ситуацию усугубляют политические решения. Передача полномочий на местный уровень без адекватного финансового обеспечения привела к деградации управления. Из отрасли ушли амбициозные специалисты, а оставшиеся кадры зачастую не способны противостоять давлению.
При этом гарантированный платёж населения за коммунальные услуги сделал сектор привлекательным для крупного капитала. Федеральные корпорации, обладающие большим политическим весом, чем местные власти, захватили наиболее прибыльные активы, окончательно лишив систему какого-либо общественного контроля.
Без коренного пересмотра подходов к управлению ЖКХ, основанного на понимании его уникальной социальной и технологической природы, рост тарифов будет продолжаться. Но цель этого роста — не модернизация, а полное уничтожение некогда единой и работающей системы, созданной в советский период.
Больше интересных статей здесь: Экономика.
Источник статьи: Есть отрасли, которые нельзя приватизировать — и ЖКХ стоит первым в списке.